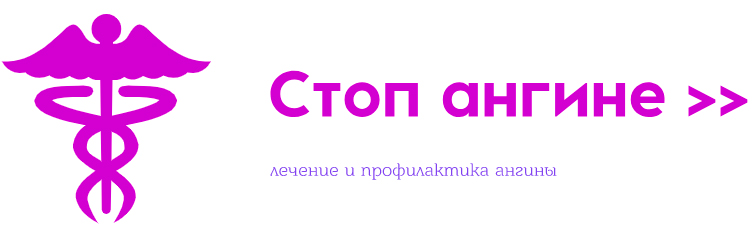Я маленький горло в ангине за окнами падает

Àõ, íàâåðíîå, Àííà Àíäðåâíà,
Âû âîâñå íå ïðàâû.
Íå èç ñîðà ðîäÿòñÿ ñòèõè,
À èç ãîðüêîé îòðàâû,
À èç ãîðüêîé è æãó÷åé,
Êîòîðàÿ êîð÷èò è òðàâèò.
È ïîãóáèò.
È òîëüêî òðàâèíêó
Äëÿ ñòðî÷êè îñòàâèò.
Âûäàþùèéñÿ ñîâåòñêèé, ðóññêèé ïîýò Äàâèä Ñàìóèëîâè÷ Ñàìîéëîâ (Êàóôìàí) ðîäèëñÿ 1 èþíÿ 1920 ãîäà â Ìîñêâå. Îòåö åãî áûë âðà÷îì, ó÷àñòíèêîì Ïåðâîé ìèðîâîé è Ãðàæäàíñêîé âîéí; â ãîäû Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ðàáîòàë â òûëîâîì ãîñïèòàëå. Îáðàçû ðîäèòåëåé ïðèñóòñòâóþò â ñòèõàõ Ñàìîéëîâà; âîñïîìèíàíèÿ äåòñòâà îòðàçèëèñü â àâòîáèîãðàôè÷åñêîé ïðîçå êîíöà 1970-õ íà÷àëà 1980-õ ãîäîâ.
Øêîëüíèê Äàâèä Êàóôìàí ïèñàë ñòèõè, â¸ë äíåâíèê. Íà îáëîæêå òîé ÷àñòè åãî äíåâíèêà, êîòîðàÿ äàòèðóåòñÿ 1935 ãîäîì, áûëî íàïèñàíî øóòëèâîå ïðåäîñòåðåæåíèå äëÿ ðîäèòåëåé: «Ïðîøó â ñèþ òåòðàäü íîñà íå ñîâàòü…»).
ÈÇ ÄÅÒÑÒÂÀ
ß — ìàëåíüêèé, ãîðëî â àíãèíå.
Çà îêíàìè ïàäàåò ñíåã.
È ïàïà ïîåò ìíå: ‘Êàê íûíå
Ñáèðàåòñÿ âåùèé Îëåã… ‘
ß ñëóøàþ ïåñíþ è ïëà÷ó,
Ðûäàíüå â ïîäóøêå äóøó,
È ñëåçû ïîñòûäíûå ïðÿ÷ó,
È äàëüøå, è äàëüøå ïðîøó.
Îñåííåþ ìóõîé êâàðòèðà
Äðåìîòíî æóææèò çà ñòåíîé.
È ïëà÷ó íàä áðåííîñòüþ ìèðà
ß, ìàëåíüêèé, ãëóïûé, áîëüíîé.
Íà òâîð÷åñêîå ñòàíîâëåíèå áóäóùåãî ïîýòà áîëüøîå âëèÿíèå îêàçàë äðóã ñåìüè, èñòîðè÷åñêèé ðîìàíèñò Â.ßí.
Êàê ìíîãèå åãî ðîâåñíèêè, Äàâèä Ñàìîéëîâ (åãî íàñòîÿùàÿ ôàìèëèÿ ïî îòöó Êàóôìàí) áûë ïàòðèîòîì ñâîåé ñòðàíû. Îí ïðîñèëñÿ äîáðîâîëüöåì íà ñîâåòñêî-ôèíñêóþ âîéíó. Íî òóäà ñòóäåíòà Ìîñêîâñêîãî èíñòèòóòà ôèëîñîôèè, ëèòåðàòóðû è èñòîðèè íå âçÿëè ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ. Â 1941 ãîäó Äàâèä Ñàìîéëîâ âñå æå îòïðàâëÿåòñÿ íà ôðîíò.
ÑÎÐÎÊÎÂÛÅ
1961
Ñîðîêîâûå, ðîêîâûå,
Âîåííûå è ôðîíòîâûå,
Ãäå èçâåùåíüÿ ïîõîðîííûå
È ïåðåñòóêè ýøåëîííûå.
Ãóäÿò íàêàòàííûå ðåëüñû.
Ïðîñòîðíî. Õîëîäíî. Âûñîêî.
È ïîãîðåëüöû, ïîãîðåëüöû
Êî÷óþò ñ çàïàäà ê âîñòîêó…
À ýòî ÿ íà ïîëóñòàíêå
 ñâîåé çàìóðçàííîé óøàíêå,
Ãäå çâåçäî÷êà íå óñòàâíàÿ,
À âûðåçàííàÿ èç áàíêè.
Äà, ýòî ÿ íà áåëîì ñâåòå,
Õóäîé, âåñåëûé è çàäîðíûé.
È ó ìåíÿ òàáàê â êèñåòå,
È ó ìåíÿ ìóíäøòóê íàáîðíûé.
È ÿ ñ äåâ÷îíêîé áàëàãóðþ,
È áîëüøå íóæíîãî õðîìàþ,
È ïàéêó íàäâîå ëîìàþ,
È âñå íà ñâåòå ïîíèìàþ.
Êàê ýòî áûëî! Êàê ñîâïàëî —
Âîéíà, áåäà, ìå÷òà è þíîñòü!
È ýòî âñå â ìåíÿ çàïàëî
È ëèøü ïîòîì âî ìíå î÷íóëîñü!..
Ñîðîêîâûå, ðîêîâûå,
Ñâèíöîâûå, ïîðîõîâûå…
Âîéíà ãóëÿåò ïî Ðîññèè,
À ìû òàêèå ìîëîäûå!
Ñíà÷àëà îí ïîïàäàåò íà ðàáî÷èé ôðîíò, ðîåò îêîïû ïîä Âÿçüìîé. Ïîçæå, çàêîí÷èâ â ýâàêóàöèè âîåííî-ïåõîòíîå ó÷èëèùå ëåòîì 1942, áûë íàïðàâëåí íà Âîëõîâñêèé ôðîíò. Áûë íåîäíîêðàòíî ðàíåí, íî ïîñëå ãîñïèòàëåé ñíîâà ðâàëñÿ íà ïåðåäîâóþ.
Çäåñü, íà ïåðåäíåì êðàå, ëåæàò èñòîêè ìíîãèõ åãî âîåííûõ ñòèõîâ.
 ÷àñòÿõ 1-ãî Áåëîðóññêîãî ôðîíòà îñâîáîæäàë Ïîëüøó, Ãåðìàíèþ; îêîí÷èë âîéíó â Áåðëèíå.  ïîýìå «Áëèæíèå ñòðàíû. Çàïèñêè â ñòèõàõ» (19541959) Ñàìîéëîâ ïîäâåë èòîã âàæíåéøåãî ýòàïà áèîãðàôèè ñâîåãî ïîêîëåíèÿ:
Îòìàõàëî ìîå ïîêîëåíüå
Ãîäû ñòðàíñòâèé è ãîäû ó÷åíüÿ…
Äà, èñïèòà äî äíà êðóãîâàÿ,
Õìåëåì þíîñòè ïîëíàÿ ÷àøà.
Îòãðåìåëà âîéíà ìèðîâàÿ
Íàøà, êðîâíàÿ, çëàÿ, âòîðàÿ.
Íó à òðåòüÿ óæ áóäåò íå íàøà!..
Èìÿ Äàâèäà Ñàìîéëîâà ñòàëî èçâåñòíî øèðîêîìó êðóãó ñîâåòñêèõ ÷èòàòåëåé ïîñëå âûõîäà åãî ïîýòè÷åñêîãî ñáîðíèêà «Äíè» (1970).  ñëåäóþùåì ñâîåì ñáîðíèêå «Ðàâíîäåíñòâèå» (1972) ïîýò îáúåäèíèë ëó÷øèå ñòèõè èç ñâîèõ ïðåæíèõ êíèã.
Äàâèä Ñàìîéëîâ ïðàêòè÷åñêè íå ó÷àñòâóåò â îôèöèàëüíîé ïèñàòåëüñêîé æèçíè, íî êðóã åãî îáùåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíî øèðîê.  ïîäìîñêîâíóþ Îïàëèõó, ãäå ñ 1967 ãîäà îí ïîñåëÿåòñÿ, ïðèåçæàåò Ãåíðèõ Áåëëü, ìíîãèå äðóãèå çíàìåíèòûå ëèòåðàòîðû òîãî âðåìåíè. Ïîýò áëèçêî äðóæèë ñî ìíîãèìè ñâîèìè âûäàþùèìèñÿ ñîâðåìåííèêàìè — Ô.Èñêàíäåðîì, Þ.Ëåâèòàíñêèì, Á.Îêóäæàâîé, Í.Ëþáèìîâûì, Ç.Ãåðäòîì, Þ.Êèìîì
ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ
Åñëè á ó ìåíÿ õâàòèëî ãëèíû,
ß á ñëåïèë òàêèå æå ðàâíèíû;
Åñëè áû ìíå òó÷ è ñîëíöà äàëè,
ß á òàêèå æå óñòðîèë äàëè.
Âñå íåãðîìêî, ìÿãêî, íåïîñïåøíî,
Ñ ãëàçîìåðîì ñóçäàëüñêîãî òîëêà —
Ðàññàäèë áû ñîñíû è îðåøíèê
È ñåëî ïîñòàâèë ó ïðîñåëêà.
Áåç ïóñòûõ çàòåé, áåç ñóåñëîâüÿ
Âñå áû ñîçäàë òàê, êàê â Ïîäìîñêîâüå.
Íåñìîòðÿ íà ñåðüåçíîå çàáîëåâàíèå ãëàç, îí ìíîãî ðàáîòàåò àðõèâàõ. Òàêæå ðàáîòàåò íàä ïüåñîé î ðåâîëþöèè 1917 ãîäà, èçäàåò «Êíèãó î ðóññêîé ðèôìå», çàíèìàåòñÿ ïåðåâîäàìè ïîýçèè ñ ïîëüñêîãî, ÷åøñêîãî, âåíãåðñêîãî è äðóãèõ ÿçûêîâ.
 1974 ãîäó âûøëà êíèãà Äàâèäà Ñàìîéëîâà «Âîëíà è êàìåíü», êîòîðóþ êðèòèêè íàçâàëè ñàìîé ãëàâíîé åãî «ïóøêèíñêîé» êíèãîé — íå òîëüêî ïî ÷èñëó óïîìèíàíèé î À.Ñ.Ïóøêèíå, íî, ñàìîå ãëàâíîå, — ïî ïîýòè÷åñêîìó îùóùåíèþ ìèðà àâòîðîì.
Å.Åâòóøåíêî â ñâîåîáðàçíîé ñòèõîòâîðíîé ðåöåíçèè íà ýòó êíèãó íàïèñàë:
«È ÷èòàþ ÿ «Âîëíó è êàìåíü»
òàì, ãäå ìóäðîñòü âûøå ïîêîëåíüÿ.
Îùóùàþ è âèíó, è ïëàìåíü,
ïîçàáûòûé ïëàìåíü ïîêëîíåíüÿ».
 1976 Ñàìîéëîâ ïîñåëÿåòñÿ â ýñòîíñêîì ïðèìîðñêîì ãîðîäå Ïÿðíó. Çäåñü íîâûå âïå÷àòëåíèÿ îòðàæàþòñÿ â ñòèõàõ, âîøåäøèõ â ñáîðíèêè Âåñòü (1978), Óëèöà Òîîìèíãà, Çàëèâ, Ëèíèè ðóêè (âñå 1981).
Ñ 1962 ãîäà Äàâèä Ñàìîéëîâ âåë äíåâíèê, ìíîãèå çàïèñè èç êîòîðîãî ïîñëóæèëè îñíîâîé äëÿ ïðîçû, èçäàííîé ïîñëå åãî ñìåðòè îòäåëüíîé êíèãîé «Ïàìÿòíûå çàïèñêè» (1995). Áëèñòàòåëüíûé þìîð Äàâèäà Ñàìîéëîâà ïîðîäèë ìíîãî÷èñëåííûå ïàðîäèè, ýïèãðàììû, øóòëèâûé ýïèñòîëÿðíûé ðîìàí, «íàó÷íûå» èçûñêàíèÿ ïî èñòîðèè ñòðàíû Êóðçþïèè è ò.ï. ïðîèçâåäåíèÿ, ñîáðàííûå àâòîðîì è åãî äðóçüÿìè â ñáîðíèê «Â êðóãó ñåáÿ» (÷àñòè÷íî îïóáëèêîâàí â 1993 ãîäó).
Èç ïîýìû «ÑÒÐÓÔÈÀÍ»
(ÍÅÄÎÑÒÎÂÅÐÍÀß ÏÎÂÅÑÒÜ)
1
À ãäå-òî, ãîâîðÿò, â Ñàõàðå,
Íàøåë ðèñóíêè Ïèòåð Ïýí:
Ïîäîáíûå ñêàôàíäðàì õàðè
È óñèêè âðîäå àíòåíí,
À ìîæåò — ìàëåíüêèå ðîãè.
(Âîçìîæíî — äóõè èëè áîãè, —
Ïèñàë ïðîôåññîð Îëüäåðîããå.)
2
Äóë ñèëüíûé âåòåð â Òàãàíðîãå,
Îáû÷íûé â ïîðó íîÿáðÿ.
Ìíîãîîáðàçíûå òðåâîãè
Òîìèëè ðóññêîãî öàðÿ,
Îò íåóñòðîéñòâà è äîñàä
Îí âûõîäèë â îñåííèé ñàä
Äëÿ ñîâåðøåíüÿ ìîöèîíà,
Ãäå êðîíû ïåëè èññòóïëåííî
È ñîáèðàëñÿ ñíåãîïàä.
ß, âïðî÷åì, íå áûë â òîì ñàäó
È òî÷íî âåäàòü íå ìîãó,
Êàê âåòðû âåÿëè ìîðñêèå òîì äîñòîïàìÿòíîì ãîäó
Óìåð ïîýò 23 ôåâðàëÿ 1990 ãîäà â Ïÿðíó.
Ïîâòîðè, âîññîçäàé, âîçâåðíè
Æèçíü ìîþ, íî îñòðåé è êîðî÷å.
Ñëåé â åäèíóþ íî÷ü ìîè íî÷è
È â åäèíñòâåííûé äåíü ìîè äíè.
Äåíü åäèíñòâåííûé, äîëãèé, åäèíûé,
Íî÷ü îäíà, ÷òî ïðîæèòü ìíå äàíî.
À ïîä óòðî îòëåò ëåáåäèíûé —
Êðèê îäèí è ïðîùàíüå îäíî.
Íà ïðàâàõ Àíîíñà Æóðíàëà «ÍÆ» ¹6 (èþíü 2010ã.)
Источник
ИЗ ДЕТСТВА
Я — маленький, горло в ангине.
За окнами падает снег.
И папа поет мне: «Как ныне
Сбирается вещий Олег… «
Я слушаю песню и плачу,
Рыданье в подушке душу,
И слезы постыдные прячу,
И дальше, и дальше прошу.
Осеннею мухой квартира
Дремотно жужжит за стеной.
И плачу над бренностью мира
Я, маленький, глупый, больной.
1956
СОРОКОВЫЕ
Сороковые, роковые,
Военные и фронтовые,
Где извещенья похоронные
И перестуки эшелонные.
Гудят накатанные рельсы.
Просторно. Холодно. Высоко.
И погорельцы, погорельцы
Кочуют с запада к востоку…
А это я на полустанке
В своей замурзанной ушанке,
Где звездочка не уставная,
А вырезанная из банки.
Да, это я на белом свете,
Худой, веселый и задорный.
И у меня табак в кисете,
И у меня мундштук наборный.
И я с девчонкой балагурю,
И больше нужного хромаю,
И пайку надвое ломаю,
И все на свете понимаю.
Как это было! Как совпало —
Война, беда, мечта и юность!
И это все в меня запало
И лишь потом во мне очнулось!..
Сороковые, роковые,
Свинцовые, пороховые…
Война гуляет по России,
А мы такие молодые!
1961
СОВЕТЧИКИ
Приходили ко мне советчики
И советовали, как мне быть.
Но не звал я к себе советчиков
И не спрашивал, как мне быть.
Тот советовал мне уехать,
Тот советовал мне остаться,
Тот советовал мне влюбиться,
Тот советовал мне расстаться.
А глаза у них были круглые,
Совершенно как у лещей.
И шатались они по комнатам,
Перетрогали сто вещей:
Лезли в стол, открывали ящики,
В кухне лопали со сковород.
Ах уж эти мне душеприказчики,
Что за странный они народ!
Лупоглазые, словно лещики,
Собирались они гурьбой,
И советовали мне советчики,
И советовались между собой.
Ах вы, лещики, мои рыбочки,
Вы, пескарики-головли!
Ах спасибо вам, ах спасибочки,
Вы мне здорово помогли!
1961
СТАРИК ДЕРЖАВИН
Рукоположения в поэты
Мы не знали. И старик Державин
Нас не заметил, не благословил…
В эту пору мы держали
Оборону под деревней Лодвой.
На земле холодной и болотной
С пулеметом я лежал своим.
Это не для самооправданья:
Мы в тот день ходили на заданье
И потом в блиндаж залезли спать.
А старик Державин, думая о смерти,
Ночь не спал и бормотал: «Вот черти!
Некому и лиру передать!»
А ему советовали: «Некому?
Лучше б передали лиру некоему
Малому способному. А эти,
Может, все убиты наповал!»
Но старик Державин воровато
Руки прятал в рукава халата,
Только лиру не передавал.
Он, старик, скучал, пасьянс раскладывал.
Что-то молча про себя загадывал.
(Все занятье — по его годам!)
По ночам бродил в своей мурмолочке,
Замерзал и бормотал: «Нет, сволочи!
Пусть пылится лучше. Не отдам!»
Был старик Державин льстец и скаред,
И в чинах, но разумом велик.
Знал, что лиры запросто не дарят.
Вот какой Державин был старик!
1962
* * *
Музыка, закрученная туго
в иссиня-черные пластинки, —
так закручивают черные косы
в пучок мексиканки и кубинки, —
музыка, закрученная туго,
отливающая крылом вороньим, —
тупо-тупо подыгрывает туба
расхлябанным пунктирам контрабаса.
Это значит — можно все, что можно,
это значит — очень осторожно
расплетается жесткий и черный
конский волос, канифолью тертый.
Это значит — в визге канифоли
приближающаяся поневоле,
обнимаемая против воли,
понукаемая еле-еле
в папиросном дыме, в алкоголе
желтом, выпученном и прозрачном,
движется она, припав к плечу чужому,
отчужденно и ненапряженно,
осчастливленная высшим даром
и уже печальная навеки…
Музыка, закрученная туго,
отделяющая друг от друга.
1962
* * *
Странно стариться,
Очень странно.
Недоступно то, что желанно.
Но зато бесплотное весомо —
Мысль, любовь и дальний отзвук грома.
Тяжелы, как медные монеты,
Слезы, дождь. Не в тишине, а в звоне
Чьи-то судьбы сквозь меня продеты.
Тяжела ладонь на ладони.
Даже эта легкая ладошка
Ношей кажется мне непосильной.
Непосильной,
Даже для двужильной,
Суетной судьбы моей… Вот эта,
В синих детских жилках у запястья,
Легче крылышка, легче пряжи,
Эта легкая ладошка даже
Давит, давит, словно колокольня…
Раздавила руки, губы, сердце,
Маленькая, словно птичье тельце.
1962
КОЛЫБЕЛЬНАЯ ВПОЛГОЛОСА
Ну вот, сыночек, спать пора,
Вокруг деревья потемнели.
Черней вороньего пера
Ночное оперенье ели.
Закрой глаза. Вверху луна,
Как рог на свадьбе кахетинца.
Кричит, кричит ночная птица
До помрачения ума.
Усни скорее. Тополя
От ветра горько заскрипели.
Черней вороньего пера
Ночное оперенье ели.
Все засыпает. Из-под век
Взирают тусклые болотца.
Закуривает и смеется
Во тьме прохожий человек.
Березы, словно купола,
Видны в потемках еле-еле.
Черней вороньего пера
Ночное оперенье ели.
1963
ПАМЯТЬ
Е.Л.
Я зарастаю памятью,
Как лесом зарастает пустошь.
И птицы-память по утрам поют,
И ветер-память по ночам гудит,
Деревья-память целый день лепечут.
И там, в пернатой памяти моей,
Все сказки начинаются с «однажды».
И в этом однократность бытия
И однократность утоленья жажды.
Но в памяти такая скрыта мощь,
Что возвращает образы и множит…
Шумит, не умолкая, память-дождь,
И память-снег летит и пасть не может.
1964
МОРЕ
Сначала только пальцем
Покатывало гальку
И плотно, словно панцирь,
Полнеба облегало.
Потом луна в барашках
Сверкала белым кварцем.
Потом пошло качаться.
И наконец взыграло.
Когда взыграло море,
Душа возликовала,
Душа возликовала
И неба захотела.
И захотела ветра,
И грома, и обвала.
А чем она владела —
Того ей было мало!..
1964 — 1965
НАЗВАНЬЯ ЗИМ
У зим бывают имена.
Одна из них звалась Наталья.
И было в ней мерцанье, тайна,
И холод, и голубизна.
Еленою звалась зима,
И Марфою, и Катериной.
И я порою зимней, длинной
Влюблялся и сходил с ума.
И были дни, и падал снег,
Как теплый пух зимы туманной…
А эту зиму звали Анной,
Она была прекрасней всех.
1965
* * *
И всех, кого любил,
Я разлюбить уже не в силах!
А легкая любовь
Вдруг тяжелеет
И опускается на дно.
И там, на дне души, загустевает,
Как в погребе зарытое вино.
Не смей, не смей из глуби доставать
Все то, что там скопилось и окрепло!
Пускай хранится глухо, немо, слепо,
Пускай! А если вырвется из склепа,
Я предпочел бы не существовать,
Не быть…
1965
ЗИМА НАСТАЛА
В первую неделю
Остекленели
Глаза воды.
Во вторую неделю
Закоченели
Плечи земли.
В третью неделю
Загудели
Метели
Зимы.
В первую неделю
Я духом пал.
Во вторую неделю
Я чуда ждал.
А в третью неделю,
Как снег упал,
Хорошо мне стало,
Зима настала.
1965
РЯБИНА
Так бы длинно думать,
Как гуси летят.
Так бы длинно верить,
Как листья шелестят.
Так бы длинно любить,
Как реки текут…
Руки так заломить,
Как рябиновый куст.
1966
* * *
Получил письмо издалека,
Гордое, безумное и женское.
Но пока оно свершало шествие,
Между нами пролегли века.
Выросли деревья, смолкли речи,
Отгремели времена.
Но опять прошу я издалече:
Анна! Защити меня!
Реки утекли, умчались птицы,
Заросли дороги. Свет погас.
Но тебе порой мой голос снится:
Анна! Защити обоих нас!
1966
* * *
Была туманная луна,
И были нежные березы…
О март-апрель, какие слезы!
Во сне какие имена!
Туман весны, туман страстей,
Рассудка тайные угрозы…
О март-апрель, какие слезы —
Спросонья, словно у детей!..
Как корочку, хрустящий след
Жуют рассветные морозы…
О март-апрель, какие слезы —
Причины и названья нет!
Вдали, за гранью голубой,
Гудят в тумане тепловозы…
О март-апрель, какие слезы!
О чем ты плачешь? Что с тобой?
1966
ВЫЕЗД
Помню — папа еще молодой,
Помню выезд, какие-то сборы.
И извозчик — лихой, завитой.
Конь, пролетка, и кнут, и рессоры.
А в Москве — допотопный трамвай,
Где прицепом старинная конка.
А над Екатерининским — грай.
Все впечаталось в память ребенка.
Помню — мама еще молода,
Улыбается нашим соседям.
И куда-то мы едем. Куда?
Ах, куда-то, зачем-то мы едем…
А Москва высока и светла.
Суматоха Охотного ряда.
А потом — купола, купола.
И мы едем, всё едем куда-то.
Звонко цокает кованый конь
О булыжник в каком-то проезде.
Куполов угасает огонь,
Зажигаются свечи созвездий,
Папа молод. И мать молода,
Конь горяч, и пролетка крылата.
И мы едем незнамо куда, —
Всё мы едем и едем куда-то.
1966
МАРИИ
М.К.
Прекрасно рисует Мария,
Особенно белку и лиса,
Особенно птицу и рыбу,
Особенно листья и лица.
Хотел бы и я поселиться
В том маленьком мире Марии,
Где славные звери такие,
Такие хорошие листья,
Такие хорошие лица!
1966, Таллин
* * *
Л.Ч.
Полночь под Иван-Купала.
Фронта дальние костры.
Очень рано рассветало.
В хате жили две сестры.
Младшая была красотка,
С ней бы было веселей,
Старшая глядела кротко,
Оттого была милей.
Диким клевером и мятой
Пахнул сонный сеновал.
На траве, еще не мятой,
Я ее поцеловал.
И потом глядел счастливый,
Как светлели небеса,
Рядом с этой некрасивой, —
Только губы и глаза…
Только слово: «До свиданья!» —
С легкой грустью произнес.
И короткое рыданье
С легкой грустью перенес.
И пошел, куда не зная,
С автоматом у плеча,
«Белоруссия родная!..» —
Громким голосом крича.
1973
* * *
Вдруг странный стих во мне родится,
Я не могу его поймать.
Какие-то слова и лица.
И время тает или длится.
Нет! Невозможно научиться
Себя и ближних понимать!
1975
* * *
Надо себя сжечь
И превратиться в речь.
Сжечь себя дотла,
Чтоб только речь жгла.
1975
* * *
Чем более живу, тем более беспечной
Мне кажется луна и время быстротечней,
Томительнее страсть, острее боль обид,
Понятнее поэт Мартынов Леонид.
А больше ничего я здесь не понимаю,
Хоть вслушиваюсь в даль и целый день внимаю,
И всматриваюсь в шум, и слышу свет и тень,
И вижу звук и гул, и слепну каждый день.
1976
* * *
И вот однажды ночью
Я вышел. Пело море.
Деревья тоже пели.
Я шел без всякой цели.
Каким-то тайным звуком
Я был в ту пору позван.
И к облакам и звездам
Я шел без всякой цели.
Я слышал, как кипели
В садах большие липы.
Я шел без всякой цели
Вдоль луга и вдоль моря.
Я шел без всякой цели,
И мне казались странны
Текучие туманы.
И спали карусели.
Я шел без всякой цели
Вдоль детских развлечений —
Качелей, каруселей,
Вдоль луга и вдоль моря,
Я шел в толпе видений,
Я шел без всякой цели.
1976
* * *
Поэзия должна быть странной,
Шальной, бессмысленной, туманной
И вместе ясной, как стекло,
И всем понятной, как тепло.
Как ключевая влага, чистой
И, словно дерево, ветвистой,
На всё похожей, всем сродни.
И краткой, словно наши дни.
1981
ВАЛЯ-ВАЛЕНТИНА
Бой вспоминается потом.
В тылу. На госпитальной койке.
Ночами часто будит стон
Тяжелораненого Кольки.
Прокручивается кино
На простыне, как на экране.
Обстрел. Команда заодно
С обрывком энергичной брани.
Все возвращается — деталь,
Неподходящая экрану,
Как комсомольский секретарь
Кишки запихивает в рану…
Азарт. Бросок.»Стреляй же, бля!»
«Ура!» звучащее не густо.
Нет, это не годится для
Документального искусства.
Но утренний приход сестриц
Пригоден для кинокартины,
Особенно насчет ресниц
Сестрицы Вали-Валентины.
Ее не тронь! Словцом хотя б!
И не допустят матерщины
Не больно верящие в баб
Гвардейцы Вали-Валентины.
О ней возможен разговор
Возвышенный, почти стихами.
Тяжелораненый сапер
О ней во сне скрипит зубами.
А этот госпитальный быт!
О чем еще мечтать пехоте!
Лежишь на чистой койке. Сыт.
И вроде с Родиной в расчете.
Да, было. А теперь печет:
Иные раны, карантины.
И с Родиной иной расчет.
И нету Вали-Валентины.
9 мая 1986
«ГРАЧИ ПРИЛЕТЕЛИ»
Стояли они у картины:
Саврасов. «Грачи прилетели».
Там было простое, родное.
Никак уходить не хотели.
Случайно разговорились,
Поскольку случилась причина.
— Саврасов. «Грачи прилетели» —
Хорошая это картина.
Мужчина был плохо одетый.
Видать, одинокий. Из пьющих.
Она — из не больно красивых
И личного счастья не ждущих.
Ее проводил он до дома.
На улице было морозно.
Она бы его пригласила,
Но в комнате хаос и поздно.
Он сам напросился к ней в гости
Во вторник на чашечку чая.
— У нас с вами общие вкусы
В картинах, как я замечаю.
Два дня она драила, терла
Свой угол для скромного пира.
Пошла, на последние деньги
Сиреневый тортик купила.
Под вечер осталось одеться,
А также открытку повесить —
«Грачи прилетели». Оделась.
Семь, восемь. И девять. И десять.
Семь, восемь, и девять, и десять.
Поглядывала из-за шторки.
Всплакнула. И полюбовалась
Коричневой розой на торте.
Себя она не пожалела.
А про неудавшийся ужин
Подумала: «Бедненький тортик,
Ведь вот никому ты не нужен.
Наверно, забыл. Или занят…
Известное дело — мужчина…
А все же «Грачи прилетели»
Хорошая очень картина».
1986
* * *
Рученьки мои устали,
Ноженьки мои устали,
Голова моя устала,
Сердце ноет от печали.
Песенка моя забылась,
Лесенка моя сломалась,
Душенька моя замерзла,
Сам не знаю, что осталось.
1986
——-
Источник: Д. Самойлов. Стихотворения. (Сер. «Новая библиотека поэта».) СПб.: 2006.
Посвящения: «Память». Е.Л. — Евгении Ласкиной. «Марии». М.К. — Марии Кросс. «Полночь под Иван-Купала…» Л.Ч. — Лидии Чуковской.
Источник
Ах, наверное, Анна Андревна,
Вы вовсе не правы.
Не из сора родятся стихи,
А из горькой отравы,
А из горькой и жгучей,
Которая корчит и травит.
И погубит.
И только травинку
Для строчки оставит.
***
Я зарастаю памятью,
Как лесом зарастает пустошь.
И птицы-память по утрам поют,
И ветер-память по ночам гудит,
Деревья-память целый день лепечут.
И там, в пернатой памяти моей,
Все сказки начинаются с «однажды».
И в этом однократность бытия
И однократность утоленья жажды.
Но в памяти такая скрыта мощь,
Что возвращает образы и множит…
Шумит, не умолкая, память-дождь,
И память-снег летит и пасть не может.
Давай поедем в город,
Где мы с тобой бывали.
Года, как чемоданы,
Оставим на вокзале.
Года пускай хранятся,
А нам храниться поздно.
Нам будет чуть печально,
Но бодро и морозно.
Уже дозрела осень
До синего налива.
Дым, облако и птица
Летят неторопливо.
Ждут снега, листопады
Недавно отшуршали.
Огромно и просторно
В осеннем полушарье.
И все, что было зыбко,
Растрепанно и розно,
Мороз скрепил слюною,
Как ласточкины гнезда.
И вот ноябрь на свете,
Огромный, просветленный.
И кажется, что город
Стоит ненаселенный,-
Так много сверху неба,
Садов и гнезд вороньих,
Что и не замечаешь
Людей, как посторонних…
О, как я поздно понял,
Зачем я существую,
Зачем гоняет сердце
По жилам кровь живую,
И что, порой, напрасно
Давал страстям улечься,
И что нельзя беречься,
И что нельзя беречься…
Перевод:
Let’s go to this town,
The long-forgotten places.
We’ll leave at luggage office
Past years, as suitcases.
Let’s store the years safely,
Not us — we’re past the storing.
We’ll feel a bit of sadness
In coolness of the morning.
The fall’s already ripened
As plums with bluish glow.
A bird’s and clouds’ flying
Are leisurely and slow.
The trees are standing naked
And ready — snow’s near.
And so large and spacious
Is autumn hemisphere.
And what was vague and rippled
And loose and rather messy
Cold fastens by its spittle
As swallows do when nesting.
So it has come — November.
It’s huge, and crisp and clear.
It seems — the town’s desert,
Since people disappear
From sight. It seems — they’re foreign
Among all empty gardens,
Tree tops and nests and crows
And vast of sky above us.
Oh, how long it took me
To see it plain and distinct —
What for my blood is running,
What for I am existing,
That I was wrong when, sometimes,
I passions kept at bay.
That there is no safe play.
That there is no safe play.
***
Не люблю я «Старый замок» — кисловатое винцо.
А люблю я старых Зямок, их походку и лицо.
«Старый замок» — где в нем крепость?
Градусов до десяти!..
Старый Зямка — это крепость,
Зямок! — мать его ети.
***
Неужели всю жизнь надо маяться!
А потом
от тебя
останется —
Не горшок, не гудок, не подкова,-
Может, слово, может, полслова —
Что-то вроде сухого листочка,
Тень взлетевшего с крыши стрижа
И каких-нибудь полглоточка
Эликсира,
который — душа.
***
Вот опять спорхнуло лето
С золоченого шестка,
Роща белая раздета
До последнего листка.
Как раздаривались листья,
Чтоб порадовался глаз!
Как науке бескорыстья
Обучала осень нас!
***
Я написал стихи о нелюбви.
И ты меня немедля разлюбила.
Неужто есть в стихах такая сила,
Что разгоняет в море корабли?
Неужто без руля и без ветрил
Мы будем врозь блуждать по морю ночью?
Не верь тому, что я наговорил,
И я тебе иное напророчу.
***
Пройти вдоль нашего квартала,
Где из тяжелого металла
Излиты снежные кусты,
Как при рождественском гаданье.
Зачем печаль? Зачем страданье?
Когда так много красоты!
Но внешний мир — он так же хрупок,
Как мир души. И стоит лишь
Невольный совершить проступок:
Встряхни — и ветку оголишь.
***
Зима. И вдруг — комар. Он объявился в доме,
Звенит себе, поёт, как летнею порой.
Откуда ты, комар? Как уцелел в разгроме?
Ты жив ещё, комар? Ты — истинный герой!
А на дворе метель. И ночь зимы ненастной.
В окне сплошная темь. В стекло гремят ветра.
А здесь поёт комар — уже он безопасный.
И можно уважать упорство комара.
Он с лета присмотрел укромное местечко.
И вот теперь гудит, как малый вертолёт.
Слились в единый хор метель, и он, и печка.
Не бейте комара! Пускай себе поёт!
А может быть, придут дни поздних сожалений,
И мы сообразим, что в равновесье сил —
Ветров и облаков, животных и растений —
Он жил совсем не зря и пользу приносил.
И будет славен он, зловредный сын болота,
И в Красной книге как редчайший зверь храним,
И будет на него запрещена охота,
И станет браконьер охотиться за ним.
Гудит, поёт комар, ликует напоследок,
Он уцелел в щели и рассказал о том.
Не бейте комара хотя б за то, что редок.
А польза или вред узнаются потом.
Из детства
Я — маленький, горло в ангине.
За окнами падает снег.
И папа поёт мне: «Как ныне
Сбирается вещий Олег…»
Я слушаю песню и плачу,
Рыданье в подушке душу,
И слёзы постыдные прячу,
И дальше, и дальше прошу.
Осеннею мухой квартира
Дремотно жужжит за стеной.
И плачу над бренностью мира
Я — маленький, глупый, больной.
***
И всех, кого любил,
Я разлюбить уже не в силах.
А легкая любовь
Вдруг тяжелеет
И опускается на дно.
И там, на дне души, загустевает,
Как в погребе зарытое вино.
Не смей, не смей из глуби доставать
Все то, что там скопилось и окрепло!
Пускай хранится глухо, немо, слепо,
Пускай! А если вырвется из склепа,
Я предпочел бы не существовать,
Не быть…
***
Все реже думаю о том,
Кому понравлюсь, как понравлюсь.
Все чаще думаю о том,
Куда пойду, куда направлюсь.
Пусть те, кто каменно-тверды,
Своим всезнанием гордятся.
Стою. Потеряны следы.
Куда пойти? Куда податься?
Где путь меж добротой и злобой?
И где граничат свет и тьма?
И где он, этот мир особый
Успокоенья и ума?
Когда обманчивая внешность
Обескураживает всех,
Где эти мужество и нежность,
Вернейшие из наших вех?
И нет священной злобы, нет,
Не может быть священной злобы.
Зачем, губительный стилет,
Тебе уподобляют слово!
Кто прикасается к словам,
Не должен прикасаться к стали.
На верность добрым божествам
Не надо клясться на кинжале!
Отдай кинжал тому, кто слаб,
Чье слово лживо или слабо.
У нас иной и лад, и склад.
И все. И большего не надо.
***
Читает Михаил Казаков:
Лет через пять, коли дано дожить,
Я буду уж никто: бессилен, слеп…
И станет изо рта вываливаться хлеб,
И кто-нибудь мне застегнет пальто.
Неряшлив, раздражителен, обидчив,
Уж не отец, не муж и не добытчик.
Порой одну строфу пролепечу,
Но записать ее не захочу.
Смерть не ужасна — в ней есть высота,
Недопущение кощунства.
Ужасна в нас несоразмерность чувства
И зависть к молодости — нечиста.
Не дай дожить, испепели мне силы…
Позволь, чтоб сам себе глаза закрыл.
Чтоб, заглянув за край моей могилы,
Не думали: «Он нас освободил».
Источник